 «Мы общаемся, чтобы понимать друг друга. А чтобы понимать друг друга, мы должны владеть общим лексиконом, который нам хорошо знаком. В этом отношении языковая норма консервативна. В хорошем смысле слова», - говорит профессор Уральского федерального университета, доктор филологических наук Ирина Вепрева.
«Мы общаемся, чтобы понимать друг друга. А чтобы понимать друг друга, мы должны владеть общим лексиконом, который нам хорошо знаком. В этом отношении языковая норма консервативна. В хорошем смысле слова», - говорит профессор Уральского федерального университета, доктор филологических наук Ирина Вепрева.
Смайлик вместо «спасибо»
Рада Боженко, «АиФ-Урал»: - Ирина Трофимовна, было время, когда грамотным считался человек, умеющий читать и писать. А каковы критерии грамотности сегодня?
Ирина Вепрева: - Действительно, в советское время грамотным считался человек, умеющий читать, писать и выполнять простейшие арифметические расчёты. Эта традиционная точка зрения со временем усилилась требованиями к орфографической и пунктуационной грамотности. Она достаточно жёстко оценивается при выполнении, например, экзаменационных работ – сочинений, которые писали мы, или ЕГЭ, который сдают выпускники школ сегодня. Причём эта оценка важна для человека, поскольку обеспечивает ему возможность учиться дальше, получать профессиональное образование. Поэтому к орфографической и пунктуационной грамотности у нас, можно сказать, отношение священное.
Но при этом в современной действительности появился новый термин – функциональная грамотность, которая подразумевает готовность человека решать любые учебные и житейские задачи, строить отношения и готовность взаимодействовать с миром. Иными словами, грамотность – это совокупность умений и навыков для использования их в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем. То есть грамотность, по сути, вышла в социальную сферу.
Кроме того, функциональная грамотность получает дальнейшую детализацию. Допустим, выделяется медицинская грамотность – современный человек достаточно осведомлён в этой сфере. Тут мы настолько преуспели, что порой даже с врачами спорим по поводу тактики лечения. Или, скажем, экологическая грамотность, культурная, читательская и даже визуальная грамотность – способность извлекать смысл из информации, представленной в виде изображения, и умение передавать информацию в визуальной форме. Вообще-то это полезный навык. Мы, конечно, в ходе практических занятий корректируем презентации студентов, когда они порой то какие-то нелепые картинки вставляют в научный текст или вместо традиционного завершения «Спасибо за внимание» размещают веселые смайлики.
Словом, сегодня грамотность вышла на глобальный уровень, то есть от основных навыков до концепции грамотности как сложной организации, где человек должен обладать знаниями, умениями и навыками в какой-либо сфере и в любой жизненной ситуации.
- Если говорить о языковой грамотности, то интернет-общение, прямо скажем, попирает священное к ней отношение.
- Безусловно, в Сети языковые нормы более лояльны. Интернет – это ведь письменная форма устного языка, а в устной форме ошибок всегда больше. Если переложить без изменений нашу устную речь в письменную, то трудно поверить, что мы так говорим, потому что, безусловно, устная речь другая, она спонтанная. И когда эту устную речь в письменном виде транслируют в интернете, конечно, ошибки неизбежны.
Игра для образованных
- Может ли это сказаться на уровне общей языковой грамотности молодёжи?
- Конечно. Методисты, например, рекомендуют учителям не демонстрировать детям неправильное написание. К специалистам по рекламе периодически предъявляются претензии по поводу обыгрывания неправильного написания – скажем, «парАход» (в рекламе обувного магазина) или замены буквы «ч» на цифру 4. Таких примеров можно привести немало.
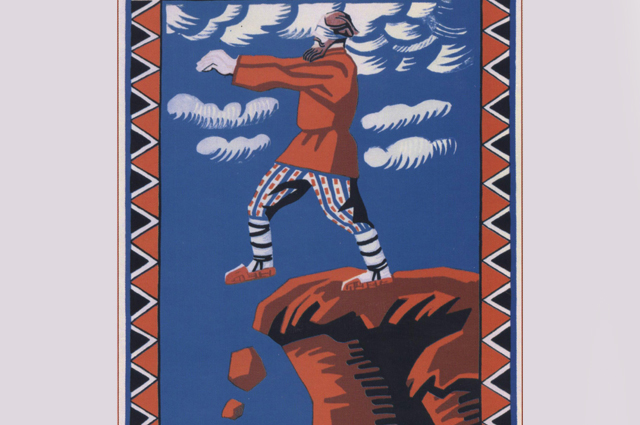
С другой стороны, языковая игра существовала всегда, и еë, если вспомнить историю, любили крупные советские языковеды. Скажем, профессор Реформатский задавал своим аспирантам шутливый вопрос: «Сколько ошибок можно сделать в слове «аспирант»?» Отвечающему надо было учесть все слабые позиции гласных и согласных в слове: Оспирант, аЗпирант, аспЕрант, аспиранД. В принципе, любая языковая игра идёт от знания правил: если человек их не знает, то он и не увидит языковую игру. Языковая игра – для образованных людей. Другое дело, что она может оказать негативное влияние на тех, у кого нет устойчивых знаний языковых норм.
- Так ли важно соблюдать нормы устной речи? Мы же поймём друг друга, даже если сделаем в слове неправильное ударение.
- Знаете, есть определённая группа ошибок, которая выступает, как лакмусовая бумажка, как индикатор безграмотности. Скажем, например, человек говорит «ложит» или «звОнит», и это сразу сигнал слабой образованности говорящего, даже если во всём остальном он прекрасен и функционально грамотен. Причём не все такие ошибки уж очень грубые. Что касается «звОнит», то на протяжении длительного времени идёт тенденция смещения ударения в классе глаголов второго спряжения с окончания на корень слова. Как вы, например, говорите: «включИт» или «вклЮчит»?
- ВклЮчит.
- А норма – по-прежнему «включИт». Но так очень редко кто говорит, и никого это не волнует, в отличие от «звОнит». Два одинаковых по форме слова, но нарушение нормы в одном случае шокирует, а в другом нет. Я, кстати, все время наблюдаю, как окружающие произносят это слово, и большинство говорит именно так – «вклЮчишь». Хотя, конечно, кто знает нормативный вариант, тот говорит правильно. Помню, когда я обратилась к внуку – «Ты включИшь?» – он, воспитанный в филологической среде, воскликнул: «Бабушка, наконец-то я услышал правильное ударение в этом слове!»
Хотя многим, конечно, всё равно – и «ложить» нормально, и «звОнит»… Более того, сегодня в устную речь активно включается сниженная, ненормативная лексика.
- Вы вообще её не приемлете или допускаете использование в определённых ситуациях?
- Есть, конечно, экстремальные ситуации, в которых этот «мужской» язык оправдан. Но в обычной речи я это не приемлю. Ненормативную лексику сегодня используют даже дети, причём они не ругаются, они так разговаривают – вот это, конечно, страшно. Ещё раздражает любимое подростками слово «блин» - это вообще-то эвфемизм более грубого слова. Знаете, есть хорошая традиция сохранения грамотности - существование в семейном кругу табу на сниженные слова. Но самое печальное, что сегодня в этом самом семейном кругу дети спокойно вместо «попа» говорят слово на букву «ж», и слово на букву «г», обозначающее отходы жизнедеятельности, никого не смущает. Для них это не грубые слова. Вот это меня, конечно, печалит.
Хранители нормы
- Могут ли языковые нормы формироваться «снизу»? Скажем, большое количество людей произносят слово определённым образом, и в конце концов это произношение становится словарным.
- В принципе, часто употребляемая форма слова может стать нормативной. Другое дело, что нормативный вариант очень долго пробивает свой путь. Вот, повторюсь, большинство людей говорят «вклЮчит», а норма всё же остаётся «включИт». Считается, пока ещё есть носители старшей нормы, она таковой и будет оставаться. И это хорошо, потому что язык, конечно, традиционен, и мы не любим, когда в него входит что-то новое и незнакомое. Язык скрепляет поколения. Если бы в нём всё стремительно менялось, он бы не выполнял свою функциональное предназначение. Допустим, если слово новое и я его не понимаю, то при общении нарушается главная задача языка – быть понятым другим. А чтобы понимать друг друга, мы должны владеть общим лексиконом, который давно и хорошо знаком. В этом отношении языковая норма консервативна в лучшем смысле слова. Консерватизм здесь не показатель отсталости, а признак традиционности.
Кроме того, нельзя снимать со счетов субъективность кодификатора, то есть того, кто устанавливает норму. Допустим, группа учёных академического Института русского языка, составляя словарь, опирается ещё и на своё языковое чутьё.
- Вряд ли можно в нём усомниться?
- Конечно, у них безукоризненное языковое чутье и высокий профессионализм. По сути, они ревностные хранители нормы. Но, еще раз повторюсь, младшая норма приходит на смену старшей на протяжении не десятилетий, а столетий. В качестве примера приведу случай конкуренции форм множественного числа существительных мужского рода с ударными окончаниями -а/-я и безударными –ы/-и: «договоры» – «договора», «слесари» – «слесаря» и др. Так, например, у слова «слесарь» старшая норма «слесари», младшая разговорная норма – «слесаря». Так вот, формы с окончаниями -а/-я получили отражение еще в письменных текстах конца X века! Сколько столетий прошло, а до сих пор идёт борьба. Где-то устоялась норма только «учителя», но не «учители», только «профессора», но не «профессоры», а где-то по-прежнему «слесаря», «токаря» считаются разговорным вариантом. Такова судьба языковой нормы.









